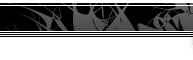|
Имя крупнейшего композитора современности, народного артиста России Эдуарда Артемьева нечасто встретишь на страницах, падких на сенсацию периодических изданий. Зато поистине огромно его мощное присутствие в сфере отечественной и мировой музыкальной культуры. Здесь Эдуард Артемьев вот уж точно свой среди своих: четырежды лауреат Государственной премии, лауреат премии «НИКА» и премии «Золотой орёл»; президент Всероссийской ассоциации электронной музыки, член Всемирной ассоциации электронной музыки при ЮНЕСКО, автор музыки к ста пятидесяти шести игровым художественным фильмам, не считая анимационных, автор целого ряда авангардных философских симфоний и грандиозной полижанровой оперы «Преступление и наказание». Среди его работ в кино — такие фильмы, как «Солярис», «Зеркало» и «Сталкер» режиссера Андрея Тарковского, он автор музыки практически ко всем произведениям Никиты Михалкова, к ряду лент Андрея Кончаловского, Карена Шахназарова, а также к фильмам ещё многих знаменитых мастеров. Вот почему Артемьев так не любит тратить время на бессмысленную светскую тусовку — у него всегда работы через край. И вообще его любимый афоризм — «Служенье муз не терпит суеты».
— Эдуард Николаевич! Что Вас подвигло в наше время, когда всюду правит бал одна «попса», на сотворение такой огромной. Сложной, философской оперы, как «Преступление и наказание» по Достоевскому? Вот уж, наверное, Вами двигал не коммерческий расчёт?
— Меня заставил это сделать режиссёр Андрей Кончаловский. Да просто-напросто заставил, предложив свое либретто. Это было в самом начале семидесятых годов. Я помню, очень бодро начал сочинять, но постепенно скис, весь мой запал угас. Эта задача показалась мне невыполнимой, непосильной. Можно ли найти какое-либо адекватное сценическое музыкальное решение для гениального романа Достоевского? Но Кончаловский подгонял меня, подстегивал. Я снова колебался… И, таким образом, эта работа растянулась у нас с ним на целых двадцать восемь лет. Но, повторяю, сам бы я на это не решился никогда.
— Так это что же, Кончаловский и стихи для Вас писал?
— Нет, там у нас был настоящий авторский союз. Стихи писал поэт Юрий Ряшенцев, а концепция и сценография принадлежали Андрею Кончаловскому и Марку Розовскому.
— Значит, премьера этой Вашей оперы уже произошла?
— Нет, на сцене она до сих пор не поставлена. У меня была договоренность с Театром имени Станиславского и Немировича-Данченко о том, что постановка состоится в ноябре, но все эти планы подкосил финансовый кризис. Так что сегодня наша опера существует только в виде записи на компакт диске. Что с ней будет дальше, я пока не знаю.
— Кризисы проходят, а искусство остаётся. Как говорит один из авторов либретто Марк Розовский: «Казалось бы, безумная идея — превратить роман в оперу, но она состоялась. Великий роман требовал великой музыки. И она зазвучала»… Тут крайне важно то, что автор оригинальной идеи оперы Андрей Кончаловский пришёл с ней именно к Вам, а не к кому-то другому. А, кстати, с кем Вы раньше подружились — с ним или с Никитой Михалковым?
— Ну, с Никитой я знаком ещё с тех пор, когда он был студентом ВГИКа. Я как раз в то время делал музыку к спектаклю «Мёртвые души» в Театре-студии киноактера, неподалеку от которого тогда жил Михалков. И вот однажды он шел мимо и, как говорится, любопытства ради заглянул на нашу репетицию. Я, разумеется, не знал, кто он такой. Никита посидел, послушал музыку и говорит: «Ты знаешь, я сейчас во ВГИКе делаю дипломный фильм „Спокойный день в конце войны“. Ты мог бы написать мне музыку к нему?» Я говорю: «А почему бы нет?» А после этого мы уже сделали большой полнометражный фильм, советский вестерн «Свой среди чужих, чужой среди своих». Потом была «Раба любви»… Ну, в общем, моя музыка звучит теперь почти во всех его картинах, кроме фильма «Очи чёрные», к которому написал музыку французский композитор Френсис Лей. Кстати сказать, по поводу картины «Свой среди чужих…» Когда мы ещё только начали над ней работать, у меня уже была готова тема лейтмотива. Но тут как раз Никиту забирают в армию. И всё, естественно, остановилось. А он мне шлёт оттуда письма — ты, мол, никому не отдавай эту прекрасную мелодию, дождись меня! Такое было замечательное романтическое время, когда все делали легко, не напрягаясь, запросто, как бы само собой.
— Но Вы ведь, как известно, и сегодня этой лёгкости не потеряли, судя по Вашим картинам последнего времени. Как говорит поэт, любой талант неизъясним. И, тем не менее, вернёмся к Вашим творческим истокам. Как бы Вы сами их определили в нескольких словах?
— Мои музыкальные предпочтения сложились из трёх основных источников: мировая классика, которую я изучал довольно долго и упорно со времён консерватории, электронное звучание и, наконец, рок-музыка, которая меня буквально захватила в конце 60-х годов. Так я определил бы кратко свой язык, свой стиль, если он существует… Вот почему я не могу сейчас представить своей музыки без рок-энергии, без электронного саунда и без симфонического оркестра.
— Да уж, неслабый получается у Вас в итоге фьюжн, то бишь музыкальный сплав! Ну, скажем, классика — это понятно. Интерес к рок-музыке тоже понятен. Но вот откуда электроника у нас в СССР в 60-х годах?
— А дело в том, что я тогда служил в «почтовом ящике», в закрытом военном заведении, будучи в звании военного инженера.
— Как? С композиторским дипломом? Почему?
— А потому, что наш великий математик и изобретатель, военный инженер Евгений Александрович Мурзин известен нам не только как создатель уникальных алгоритмов по перехвату баллистических ракет, но и как инициатор создания первого советского музыкального электронного синтезатора. Хотя «пробить» в те времена такую тему было очень даже нелегко. Ну, а для этого ему был нужен профессиональный композитор, музыкант.
— Но как он всё же выбрал Вас?
— Да очень просто. Он повесил объявление в консерватории, что приглашаются желающие заниматься электронным синтезатором, звонить туда-то и туда-то. Ну, а я всегда стремился к новому, оригинальному, чего ещё никто не делал, мне всё это было страшно интересно. Я и позвонил. Мурзин со мной поговорил и в результате этого, можно сказать, решил мою судьбу. А именно: он обратился с просьбой в Министерство культуры, чтобы Артемьева Э. Н. по окончании консерватории не отправляли на три года по распределению, а командировали бы в «почтовый ящик»-то есть, проще говоря, оставили в Москве. Так началась моя работа с музыкальным синтезатором в лаборатории под руководством Мурзина. Не скрою, электронное звучание меня тогда буквально потрясло. Но полностью я оценил его огромные возможности только в работе над фильмом «Солярис», благодаря которому я, видимо, и состоялся вообще как композитор. А тогда Андрей Тарковский сразу же поставил мне задачу: здесь не требуется музыка в традиционном понимании — с мелодией, темой, развитием темы… Ему здесь нужно было, чтобы музыка как бы подспудно, незаметно вытекала из естественных шумов. Мне оставалось это только реализовать. Так в фильме возникали совершенно неожиданные, фантастические звуковые эффекты, которых нельзя достичь другим путём.
— И потому, наверное, в Вашем списке творческих работ так много фантастических картин. Чем вообще для Вас так привлекательно кино?
— Ну почему же, я пишу симфонии и оперы, довольно много сочиняю для театра. Дело в том, что мне интересно пробовать себя в каких-то новых жанрах, направлениях… Что же касается кино, оно имеет преимущество и в том, что там есть редкая возможность поработать с симфоническим оркестром. Где ещё, скажите, композитор может сразу получить в своё распоряжение большой академический оркестр?
— Тот же вопрос я задал некогда Альфреду Шнитке: «Почему Вы пишете так много для кино?» И он ответил мне примерно так же: «Где ещё я мог бы взять большой оркестр, где получил бы право на эксперимент?»
— Да, я считаю, что кинематограф — это колоссальная лаборатория, где ты, что называется, за счёт картины получаешь все условия для полной творческой свободы, для раскрытия себя.
— Но ведь всё это очень просто может ограничить режиссёр?
— Да, я всегда очень внимательно выслушиваю режиссёра. Главный свой урок я в этом смысле получил от известного режиссёра Самсона Самсонова, который, кстати, первым заказал мне музыку для фильма. Я тогда по молодости лет пытался с ним всё время спорить и доказывать своё. И вот он мне однажды говорит: «Ты знаешь, вас, таких вот идиотов спорящих, на моём фильме пруд пруди. Все со мной спорят постоянно — операторы, художники, актёры, композиторы… Но только я один здесь точно знаю, что мне нужно. Понимаешь? Я один! А если вы все будете тянуть в разные стороны, как лебедь, рак и щука, мы развалимся, погубим весь проект. Вот почему ты должен слушать режиссёра: он один здесь точно знает, что получится в итоге. Но и он же здесь ответственен за всё». Мне это так с тех пор запало в голову, что я теперь не спорю с режиссёром никогда, очень внимательно его слушаю и пытаюсь понять требования.
— Я думаю, что всё это вполне относится не только лишь к кино. Вот бы и в жизни повседневной этот метод применить!.. И, кстати, если уже речь зашла о воспитании, о жизненных уроках, каковы Ваши истоки в этом смысле, Ваши корни? Вы ведь, кажется, из творческой семьи?
— Мой дед, Василий Артемьевич Артемьев, насколько мне известно, происходит из крестьян Можайской губернии. Оттуда он пришёл в Москву, поступил на литейный завод, дослужился до мастера. Кстати сказать, его особый личный штамп — знак качества — имеется на памятниках в Бородинском поле, которые он отливал… Но все его дети, за исключением моего дяди Константина, ставшего военным, с юности мечтали об искусстве. Мой отец, Николай Васильевич, был хорошим химиком, но обладал прекрасным голосом и поначалу даже учился пению. Но началась война, и его планы рухнули. И моя мама, Нина Алексеевна, которая всегда была с ним рядом, посвятила также свою жизнь семье и дому. Но вот две мои тётки стали всё-таки актрисами, исполнили свою мечту…
— А как так вышло, что Вы, будучи по сути москвичом, родились не в Москве?
— Ну, тут всё просто, моего отца направили в Новосибирск, где создавалась тогда новая промышленность. Вот там я и родился. Но, однако, очень скоро мы уже уехали в Архангельск, так что моё детство всё прошло на северах. И появился я в Москве, когда мне уже стукнуло семь лет и надо было идти в школу. Но приехал сюда один, так как отец ещё довольно долго не имел возможности вернуться. Так что жил я в семье моей тети Марии Васильевны и её мужа Николая Ивановича Демьянова — весьма известного хормейстера и преподавателя теоретических дисциплин Московской консерватории. Они-то и обратили внимание на мои музыкальные данные и направили меня в музыкальное училище под руководством Свешникова.
— То есть Вы пели в детском хоре, начинали как певец?
— И, кстати говоря, не я один. Точно таким же образом когда то, скажем, там же проходил класс хорового пения и композитор Родион Щедрин…
— А по какому адресу Вы жили в это время?
— В доме на углу Большой Грузинской улицы и Трындинского переулка. А мои родители, вернувшиеся с севера, жили на Пролетарской.
— И как Вас встретила тогдашняя Москва, какой она вам показалась?
— Ну, естественно, меня, провинциального мальчишку, Москва поразила своими масштабами, не говоря уж о Кремле и других исторических памятниках. Да она ведь сама по себе исторический памятник!.. Так получилось, что в девяностые годы мы с моей женой Изольдой некоторое время находились за границей. А когда вернулись, то нас просто поразили перемены в облике Москвы, которая теперь ничем практически не отличается от западных столиц. Всё это, честно говоря, настолько ново для меня, что я до сих пор не могу вписаться в этот столь непривычный для той, прежней Москвы образ жизни… Но как бы там ни было, Москва всегда была, есть и будет центром всей культурно-духовной жизни России. Ведь вне Москвы в буквальном смысле слова не пробиться никуда. Что, согласитесь, в то же время создаёт определённый перекос, благодаря чему все творческие люди рвутся именно в Москву. Так что Москва конечно же дала мне всё, о чём я только мог когда-либо мечтать.
— Тем более Вам есть с чем её сравнивать. Так как Вы несколько лет прожили в Лос-Анджелесе, сочиняя музыку для Голливуда. Кстати, если я не ошибаюсь, Вы ведь, кажется, единственный российский композитор, приглашённый на работу в Голливуд?
— Я написал там музыку к семи картинам, три из которых поставил Андрей Кончаловский. Это — «Гомер и Эдди», «Одиссея» и музыкальный фильм «Щелкунчик», который мы с ним, кстати, только что закончили.
— И как Вас встретил мистер Голливуд?
— Да, прямо скажем, поначалу очень жестко, я к такому не привык.
— Но Вы же дали им наверняка прослушать Вашу потрясающую киномузыку — ну, скажем, ту же самую «Рабу любви»?
— Да, они много моей музыки прослушали — и «Сталкер», и «Солярис»… Но, тем не менее, они мне говорят: «Ну, всё это — Европа, это не Америка. Вы покажите, что Вы можете, в Америке, где существует свой, особый стиль».
— Но ведь у них там, скажем, в полном смысле слова процветает итальянский композитор Моррикконе. Как же так?
— Да, он, конечно, сильно утвердился в Голливуде. Но, насколько мне известно, поначалу его тоже не хотели принимать.
— И чем же это разрешилось в Вашем случае?
— Тем, что они мне там устроили экзамен, предложили написать музыку к трём эпизодам фильма. И, как выяснилось, я его вполне успешно сдал… С тех пор я время от времени работаю в Голливуде, часто сочиняю музыку для голливудского кино. Вот, скажем, в августе собираюсь в Лос-Анджелес, где меня ждет очередной заказ на новый фильм.
— А почему Андрей Сергеевич не захотел там утвердиться?
— Он вполне мог утвердиться — на его счету там семь картин и он постоянно получает предложения на этот счет, но не всегда эти предложения его устраивают. Он сам не хочет по их правилам играть… Что же касается меня, то у меня в России столько дел, столько заказов, что и не знаю, как мне это всё успеть.
— Вы — человек, вся жизнь которого подчинена служению искусству. Как Вам в этом смысле парадокс Уайльда, что искусство бесполезно? Должна ли музыка служить какой-либо идеологии, тенденции, идее? Или же искусство — вне всего?
— Я думаю, что искусство никому ничего не должно. Оно возникает из внутренней потребности человека создавать что-то новое, это заложено в нас изначально. Но при этом есть разные виды искусства. Есть такие, что умеют очень ловко подражать реальности, копировать её. А есть такие, как, к примеру, музыка, которая, в силу своей специфики, существует сама по себе. И в этом смысле музыка — это особая реальность, существующая только лишь в сознании художника и более — нигде. Мы можем слышать только её отзвуки из неких высших сфер, где у неё свои законы, свой особый строй, своя гармония. То есть она — как параллельный мир, как параллельная Вселенная, где всё идёт своим собственным путём.
Владислав Чеботарёв
(«Тверская, 13». Газета Правительства Москвы от 30.05.2009. Суббота № 68 (1640))
|